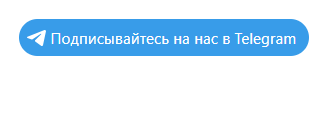Опера Александра Цемлинского во Франкфурте-на-Майне.
Ввиду массового нашествия на отечественную оперную сцену бояр в мехах, поэтов с подведенными глазами и влюбленных советских пейзан, нелишне напомнить, что так называемая «режопера», само название которой уже перешло в разряд инвективной лексики, совсем не ставит главной целью демонстрацию увлекательных картин Содома и Гоморры, а также любование всяческого рода перверсиями. Скорее это попытка – разными способами – сделать оперный спектакль актуальным, что-то говорящим про сегодняшний день.
Кстати говоря, надругательство над гробами композиторского пантеона тоже не является первоочередной задачей «режоперы», как бы в этом нас не убеждали некоторые театральные критики.
Тем интереснее посмотреть, как конкретная задача – сделать живой и современной одну малоизвестную оперную партитуру начала ХХ века – успешно решается в режиме «лайт». То есть – без привлечения каких-либо сверхъестественных декорационных и артистических ресурсов.
Таковой оказалась постановка оперы Александра Цемлинского «Гёрге-мечтатель» во Франкфурте-на-Майне, премьерный показ которой завершился в марте этого года.
Интерес к оперному творчеству Цемлинского, а он по нарастающей идет последние полвека, в нынешней Москве сосредоточился, к примеру, в прошлогодней постановке одноактного «Карлика» (вместе с «Иолантой» Чайковского) в «Новой опере» и концертном исполнении «Царя Кандавла» Госоркестром имени Светланова под управлением Дмитрия Юровского.
Музыка Цемлинского сегодня оказалась очень интересна как пример «переходного стиля», «музыкального транзита», в котором внимательное ухо способно услышать причудливую и очень плотную амальгаму из Брамса и Вагнера, Вольфа и Малера, Берга и Шёнберга, да и много чего из австро-немецких «дивных звуков» конца ХIХ столетия и первой трети века ХХ. Ту самую – «гениальную эклектику», по ироничному выражению Теодора Адорно.
Все, что связано с историей несостоявшейся венской премьеры «Гёрге-мечтателя», несет на себе печать жизненной и творческой драмы, в общем-то сломавшей судьбу композитора.
Опера была написана по заказу Густава Малера и должна была быть поставлена в сезоне 1907/08 в Венской опере, но Малера увольняют, а следующий главный дирижер Феликс Вейнгартнер, как это нередко водится, обнуляет все договоренности предшественника.
Сам Цемлинский, один из лучших дирижеров своего времени, вскоре уезжает из имперской Вены в провинциальную Прагу. Кстати говоря, как дирижер Цемлинский трижды в 1920-З0-х годах приезжал на гастроли в Ленинград.
А премьера «Гёрге-мечтателя» была отложена на много десятилетий – и состоялась в Нюрнберге в 1980 году.
Полагают, что в опере «Гёрге-мечтатель», как и в некоторых других сочинениях, отозвалась история любви Цемлинского к его ученице Альме Шиндлер. Так это или нет, сказать трудно, но Альма была настоящим переходящим знаменем отважного отряда знаменитых художников, композиторов, поэтов и архитекторов эпохи – от Климта и Малера до Гропиуса и Верфеля. Так что Александр Цемлинский оказался в хорошей компании!
Если бы либретто «Гёрге-мечтателя» проходило сценарный питчинг в наши дни, никаких шансов преодолеть даже самую первую публичную презентацию у его автора – литератора Лео Фельда не было бы от слова «совсем».
Достаточно сказать, что сюжет оперы разбивается на три не слишком связанных между собой и весьма немотивированных эпизода.
Некто Гёрге (Эй Джей Глюкерт) – деревенский книгочей и мечтатель – видит сказочные сны, которые затем излагает более практичным односельчанам при своем полном убеждении, что эти грезы обязательно сбудутся.
В одном из эротических видений к нему приходит прекрасная принцесса (Зузана Маркова), о чем он незамедлительно сообщает своей невесте Грете (Магдалена Хинтердоблер). Та, понятное дело, воспринимает сновидческие трипы жениха без особого энтузиазма, тем более, что на горизонте появляется более хозяйственный и веселый молодой человек, а к Грете прилагается еще и мельница. Тем временем принцесса из сна является к Гёрге уже почти реально, помолвка с Гретой расстраивается, а наш герой убегает ото всех и от греха подальше. Так заканчивается первое действие.
Во втором акте сюрпризов еще больше. Уже другая деревня, но все тот же Гёрге, который окончательно разочаровался в жизни. Параллельно местные жители планируют крестьянское восстание. И почему-то приглашают именно интроверта Гёрге в качестве духовного вождя. Но мысли героя уже заняты девушкой Гертрауд, которую все считают ведьмой. Добрые поселяне не на шутку возмущены намерением Гёрге взять в жены Гертрауд и собираются приступить к местному «суду Линча».
Наконец, в эпилоге оперы (который был первоначально целым третьим действием, но который уже даже Густав Малер перед своей отставкой попросил «урезать») Гёрге и Гертрауд спокойно живут-поживают, да добра наживают с помощью пресловутой мельницы. Поселяне и поселянки (в том числе и Грета, которая все-таки вышла замуж за нормального парня) благодарят их за труды праведные. А Гёрге внезапно обнаруживает в Гертрауд принцессу из своего старого сна. Занавес.
Короче, перед любым режиссером встает задача – всю эту сюжетную невнятицу начала ХХ века связать в некое целостное повествование с какой-то моралью в финале. Простое объяснение, что это такой особый жанр «сказка-притча» – не помогает.
И вот тут интересно наблюдать за тем, что делает Тильман Кёлер – режиссер-постановщик оперы Цемлинского.
Декорации: обшитое светлым деревом замкнутое пространство, ряды скамеек, которые могут быть как частью биргартена («пивного сада»), так и церковного антуража или какого-то другого общественного места. Лишенные ярких цветов костюмы героев. Cельский «бедный театр». Впрочем, огромные тени-силуэты, которые время от времени отбрасывают главные герои, напоминают о немецком немом кино 20-х годов.
Но главное – в первом действии режиссер воссоздает осторожными, но точными мазками образ Германии, который мы помним, например, по фильму М. Ханеке «Белая лента». Деревенский черно-белый «гармоничный» мир, населенный не слишком добрыми жителями, со скелетами в шкафу и разнообразными психотравмами. А еще вспоминается визуальная энциклопедия немецких типов первой трети прошлого века великого фотографа Августа Зандера, которая тоже была не слишком почтительна по отношению к своим героям. И это тот самый мир «Традиции», что всеми силами готовил в Германии 1933 год…
И это не романтическое противопоставление фантазии и быта, вымысла и реальности, просто в этой коллективной «Традиции» – теперь мы это знаем доподлинно – нет места аутсайдерам и нет пощады инакомыслию…
Если первое действие оперы относит нас скорее ко времени между двумя мировыми войнами, то второе неожиданно перемещает в… 1968 год – в эпоху студенческих волнений и «левого» террора. Происходит это не впрямую, но тонким намеком. Предводитель восставших (колоритный Йен МакНил) выглядит как взбесившийся хиппи (со своей вполне рок-н-рольной гитарой), ставший боевиком Rote Armee Fraktion. А люди «Традиции» превращаются в толпу, которая не останавливается ни перед чем. Финал второго акта, когда эта толпа окружает Гёрге и Гертрауд, не оставляет никаких иллюзий в отношении «окончательного решения вопроса» для главных героев.
В результате оба действия «оперы-сказки», как кажется, достаточно тактично проводят немного ошарашенного зрителя через два важнейших периода немецкой истории ХХ века: национал-социализм и леворадикальный террор.
Наконец, эпилог… Здесь наши герои оказываются «на облаце» из золотистой ткани, которая расстелена уже на совершенно пустой сцене и напоминает скатерть для пикника. В этом прекрасном мире «нет ни печали, ни воздыхания», Гертрауд сидит на качелях, прикрепленных к звездам, а счастливую пару окружают дети-ангелочки (все эти образы заимствованы из сказки Р. Фолькманна-Леандера, которая была одним из источников либретто).
Впрочем, благие усилия режиссера сделать партитуру «Гёрге-мечтателя» интересной для завсегдатаев франкфуртской оперы были бы тщетны, если бы не музыка Цемлинского. Дирижер Маркус Пошнер ведет спектакль уверенно, с видимой и слышимой энергией, а все, что звучит в оркестре – даже чуть интереснее, чем то, что происходит в вокальных партиях. Оркестр живет, дышит, двигает действие и направляет поступки героев.
Первоначально начавшееся как непритязательная сказка с фрейдистским оттенком, оперное действие оборачивается еще одним вариантом «переселения душ» в отдельно взятой немецкой «сельской местности».
Но все-таки финал оперы «Гёрге-мечтатель» Александра Цемлинского во Франкфурте-на-Майне – это вполне седативный вариант, в котором «кто-то хитрый и большой» прощает и отправляет всех героев в то самое место, которое немецкий диалектик Гегель называл темным словом das Andersein («инобытие» – где бы оно ни находилось).
Не то в других спектаклях, совсем недавно поставленных во Франкфурте-на-Майне. К примеру – в опере «Первые люди» композитора Руди Штефана, погибшего совсем молодым в 1915 году во время боев в Галиции. По режиссерскому замыслу действие оперы происходит после ядерной катастрофы в мире постапокалипсиса, где первые (или последние) люди дружно мучаются, предаются кровосмешению и по-братски стараются убить друг друга.
Но это уже совсем другая «ожившая сказка».
Григорий Шестаков