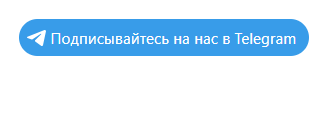Пианист, обладатель первой премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова Александр Ключко — о конкурсной публике, интуиции, знаковых встречах и любимых режиссерах.
— Александр, поздравляю с победой на Конкурсе! Вопрос, возможно, наивный, возможно, пафосный, и все же очень интересно. Можете в словах выразить, что испытывает человек, когда при объявлении победителя слышит свое имя?
— Когда объявили результаты, я вообще никак не мог сформулировать, что происходит в голове. В этом плюс играть последним: не надо долго ждать. Но финал был настолько затратный по ресурсам, и очень долго я не мог прийти в себя после самого выступления — у меня всегда так. Потом объявление результатов. Еще и поэтому осознание того, что я получил первую премию, начало приходить где-то на Гала-концерте.
Это очень радостно, но в то же время — и Денис Мацуев об этом говорил — после победы нужно показать всем, что ты достоин этой победы. Еще раз. Продолжать доказывать, доказывать… По сути, нельзя наслаждаться победой, потому что на человека налагается некая ответственность: он должен соответствовать уровню. Для меня это как раз самое важное.
Прошло некоторое время, и я до сих пор не могу выйти из конкурсного ритма, продолжаю заниматься. Смотрю, что у меня в следующем сезоне, какие планы, какой новый репертуар. Все, работа — она уже началась. Поэтому я стараюсь сделать все возможное, чтобы доказать всем, что этой первой премии я достоин.
— В моих интервью с участниками конкурса имени Рахманинова уже стал традиционным вопрос: помните ли вы свое знакомство, первую встречу с музыкой Сергея Васильевича?
— Да, помню. Я не из музыкальной семьи, и серьезно я начал интересоваться и заниматься музыкой в возрасте одиннадцати-двенадцати лет. Пожалуй, могу назвать два впечатления. Первое — запись Эмиля Гилельса соль минорной прелюдии Рахманинова. Военная запись, там еще самолеты летают… К сожалению, не полная запись, только фрагмент. Это произвело на меня какое-то сумасшедшее впечатление.
А второе — я услышал по телевизору запись Третьего концерта Рахманинова в исполнении Дениса Мацуева с Лорином Маазелем. Я впервые слышал эту музыку и я просто не мог представить, что что-то такое вообще существует. Как сейчас помню, у меня был кнопочный телефон, я скачал себе запись и каждый раз, когда куда-то ехал или ходил на прогулку, слушал Третий концерт Рахманинова. И вот с тех пор я просто грезил Третьим концертом.
— Вы его исполнили в финале.
— Я его исполнил, да. Но в то время это казалось какой-то абсолютно невозможной, несбыточной мечтой. И когда моя семья уже переехала в Москву и я начал учиться в школе имени Шопена, я достал ноты концерта в библиотеке. Пытался сыграть его с листа, у меня ничего не получалось…
— Сколько вам было лет?
— Двенадцать. У меня ничего не получалось, я не мог его сыграть. Но даже само ощущение, когда ты пытаешься исполнить эту музыку… это… что-то невероятное. И потом, уже спустя несколько лет, я наконец-то играл Третий концерт на выпускном экзамене в колледже. Когда мы впервые сыграли его на двух роялях с моим педагогом Сергеем Арцибашевым, это тоже было незабываемо. Все, что связано с Третьим концертом Рахманинова — особенные события в моей жизни.
— Продолжая разговор о конкурсе имени Рахманинова. Какой тур запомнился больше всего? Возможно, из-за сложности, а может, наоборот: потому что было просто, легко?
— Честно говоря, для меня самым простым был тур с вокалистами. Единственное, мне кажется, когда очень много повторяющихся романсов — это тяжеловато и для публики, и для жюри. Но этот тур был самым легким, потому что большую часть романсов я играл до конкурса и у меня был опыт работы с разными вокалистами.
Я должен сказать огромное спасибо моему педагогу по концертмейстерскому классу в консерватории Ирине Валерьевне Кирилловой. Как только я сказал ей, что буду участвовать в конкурсе, что подаю заявку, мы сразу выбрали с ней программу, сразу начали заниматься. Ирина Валерьевна приглашала разных вокалистов из консерватории, чтобы у меня было как можно больше разных подходов, чтобы я был готов к разным неожиданностям, которые могут произойти. Поэтому когда я прошел в третий тур, то был абсолютно спокоен за выступления с вокалистами. И за это огромное спасибо педагогу.

А самым сложным для меня был, пожалуй, первый тур, потому что там сплошные миниатюры. А в миниатюре в принципе сложно… добиться индивидуальности каждой пьесы. Переключение сознания между произведениями — вот это было для меня самое сложное. Ну и в принципе к этим условиям приспособиться.
Во втором туре уже были крупные формы, я чувствовал себя комфортнее. Тоже, конечно, нервничал, но далеко не так сильно, как перед первым туром.
Первый тур был волнительным еще и потому, что это был мой первый выход на сцену Большого зала консерватории. Я играл в Большом зале, но я никогда не играл там на конкурсе и никогда не играл там долго. Я исполнял отдельные произведения, части концертов с оркестрами, но никогда у меня не было полноценной программы. Поэтому первый тур был очень волнительным и психологически очень сложным.
— Мы общаемся после вашей победы на конкурсе, уже можно выдохнуть. А вот если оглянуться в прошлое, как думаете, без каких событий, встреч, знакомств не было бы того, что есть? Если говорить не только о конкретных людях и встречах, победах, но и о неочевидных влияниях, даже поражениях?
— Во-первых, я бы не начал серьезно заниматься музыкой, если бы не попал на один конкурс в Нижнем Новгороде, где я увидел совершенно другой уровень фортепианной игры.
— Что это был за конкурс?
— Конкурс имени Виллуана, весна 2012-го года. Я из города Саранска, учился в обычной музыкальной школе. Занимался с педагогами из музыкального училища, но все же, когда я попал на конкурс, чувствовал себя настолько неспособным к действительно фортепианному исполнительству — смотря на людей, которые учились в ЦМШ или в Гнесинской десятилетке. И это меня настолько сильно подстегнуло, что мой жизненный фокус сильно сместился на музыку, на занятия на рояле. Без этого, я думаю, ничего бы не получилось.
— Вы заняли что-то на том конкурсе?
— Там было два тура, я прошел во второй, но никакого призового места или диплома я не получил.
— Не было мыслей: если я не дотягиваю до этих талантливых детей, до этого запредельного уровня — может, мне лучше бросить музыку?
— Нет, не было. Было желание добиться как минимум такого же, если не больше. Какое-то желание… спортивное даже. Потом я, конечно, понял, что музыка и спорт — вообще не рядом и абсолютно из разных миров понятия, но тогда это было.
Возвращаясь к вопросу о встречах и неочевидных влияниях. Оказали влияние встречи со всеми моими педагогами, но это, как раз-таки, напрямую связано. Это и Сергей Арцибашев, и потом — моя поездка и обучение в Париже у Рены Шерешевской. Встреча с Павлом Нерсесьяном и Алексеем Набиулиным.
Про Павла Нерсесьяна могу сказать, что мы с ним встретились задолго до того, как я начал у него учиться. Мы встретились, когда Павел Тигранович сидел в жюри на конкурсе Марии Канальс в Барселоне. И после конкурса, на закрытии, мы настолько быстро нашли с ним общий язык, что когда я решил поступать в Московскую консерваторию, у меня вообще не было никаких сомнений, к кому поступать. Вот это, пожалуй, тоже была знаковая встреча.
— Вы упомянули обучение у Рены Шерешевской. Могу предположить, что во время учебы и жизни в Париже вы общались с пианистами из разных стран. Насколько в других странах и во Франции в том числе молодые музыканты нацелены на конкурсы? Есть ли «конкурсная лихорадка», которая ощутима в России?
— Есть. Я учился в Ecole Normale de Musique de Paris, и там довольно многие пианисты участвовали в различных конкурсах. В 2020-м году, я помню, очень многие участвовали в отборе на конкурс имени Шопена.
Во Франции довольно много своих конкурсов — и локальных, и более крупных, поэтому там много конкурсных пианистов. Другое дело, что я в основном общался с учениками Рены Шерешевской, потому что у нее очень большой класс, в котором учатся пианисты из разных стран: и несколько человек из России, несколько французов, несколько японцев. Поэтому мы все находились в одной атмосфере, именно в классе Рены Шерешевской.
— А конкуренция чувствовалась между собой, между учениками Рены Шерешевской?
— Чувствовалась, да.
— Спасибо за честность!
— Конкуренция чувствовалась, но так вышло, что, когда я там учился, мы все участвовали в разных конкурсах. Причем это было без сильного направления от профессора — так вышло, что мы ездили по разным конкурсам. В частности, проходил Конкурс имени королевы Елизаветы, и примерно в то же время были конкурс имени Артура Рубинштейна и конкурс в Сиднее.
Конкурс имени Рубинштейна и Сидней проходили в дистанционном формате, а Конкурс имени королевы Елизаветы — в очном. И так вышло, что на Конкурсе имени королевы Елизаветы у Рены Мидхатовны играло трое учеников. А на Конкурсе имени Рубинштейна я был один.
Объявлены имена участников XVI Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна
В конкурсе в Сиднее должен был участвовать Дмитрий Син, который, к слову, тоже участвовал в конкурсе имени Рахманинова, но поскольку он прошел во второй тур на Конкурсе имени королевы Елизаветы, он отказался от участия в Сиднее, и среди учеников Рены Мидхатовны я остался там в одиночестве. Поэтому постоянно происходили такие рокировки учеников.
Конкуренция чувствовалась, но она была очень здоровая, потому что мы все очень тесно общались, мы играли друг другу, советовались друг с другом. И как раз это, на мой взгляд, очень ценно в классе. Мне это всегда напоминало Московскую консерваторию 50-х-60 х годов, когда преподавали Нейгауз, Гольденвейзер. Тогда все ходили друг к другу на уроки, человек из одного класса мог позаниматься у другого профессора. Мне всегда это очень импонировало, и я очень надеюсь, что, может быть, в Московскую консерваторию это когда-нибудь вернется.
— Часто музыканты посылают заявки на несколько конкурсов одновременно. Случается ведь, когда человек не проходит ни на один конкурс, а может пройти на все?
— Да, такое бывает.
— И как в таком случае совершается выбор конкурса, по каким критериям? Или это происходит на уровне ощущений, интуиции?
— По-разному. Например, если отправляешь заявки на два конкурса, которые проходят примерно одновременно, и вдруг проходишь на оба, то выбираешь по своим ощущениям и советуясь с педагогами, конечно. Отталкиваешься от того, в каком репертуаре чувствуешь, что можешь больше раскрыться, больше себя показать.
Иногда это чисто интуиция. Например, я до последнего думал, подавать заявку на Конкурс имени Рахманинова или нет, потому что в тот момент готовился на конкурс Клиберна. Я решил подать заявку на Конкурс имени Рахманинова, слава Богу, что я это сделал, потому что на Конкурс Клиберна в итоге я не прошел. Я прошел предварительный отбор по видеозаписям, но уже на живом отборе, который проходил в Форт-Уорте в Америке, пропустили других пианистов.
Я совершенно не жалею об этом, очень тепло отношусь к конкурсу Клиберна. И очень рад, что участвовал в конкурсе имени Рахманинова. Поэтому выбор конкурса — иногда интуитивный выбор.
Конкурс Клиберна допустит российских пианистов до отборочного прослушивания
— Можно ли привыкнуть… хотя, наверное, это не совсем верное слово. Можно ли научиться спокойно относиться к ситуации, когда ты не проходишь на конкурс? Это спокойствие — мудрость человека, черта его характера, склад личности, или больше опыт?
— Это зависит, конечно, от характера человека, на мой взгляд. Но и опыт играет роль тоже. Бывает, что у человека идет одна победа за другой, а потом внезапно он куда-то не проходит или не проходит в финал на конкурсе. Это очень сильно бьет по нервной системе.
— Будто прошлые заслуги нивелируются, теряют значение?
— Да. И мне кажется, как правило, так бывает, когда ты все свои силы вкладываешь в подготовку к конкурсу и выкладываешься на 110% на самом конкурсе, а потом не проходишь. И появляются такие вопросы: а почему? Что я сделал не так?
С некоторых пор я научился как-то с этим справляться. Я понимаю, что то, как играю я и то, что близко мне, может быть совершенно не близко другим людям, которые, например, сидят в жюри. После осознания того, что вкусы у всех разные, что у всех разные ценности в искусстве, все обращают внимание на разные вещи, я стал к этому спокойнее относиться: не получилось — не получилось. Буду работать дальше. Получилось — отлично. Сейчас у меня такое отношение к этому.
— Если бы можно было вернуться в прошлое и что-то изменить, как думаете, участвовали бы в большем количестве конкурсов или меньшем? Либо иначе быть не могло, бессмысленно рассуждать о неслучившихся вариантах развития событий?
— Я бы ничего не менял. Потому что для меня всегда важнее было что-то понять именно в репертуаре. И то, сколько у меня было конкурсов, для меня лично было оптимально, потому что я успевал готовить новые программы для других конкурсов, старался их не дублировать.
Такое часто бывает, когда люди играют одни и те же программы даже из года в год. Лично мне это категорически не подходит, потому что я всегда хочу учить новое. Конечно, я стараюсь довести произведение до какого-то…
— Совершенства?
— Совершенства достичь невозможно. Но можно дойти до уровня, который приносит какое-то удовлетворение. И мне легче будет потом вернуться к произведению с новыми мыслями, нежели годами добиваться абсолютного совершенства, что в итоге все равно невозможно. Поэтому я стараюсь как можно больше учить нового репертуара.
Еще, конечно, надо понимать, что с возрастом это становится тяжелее делать. Пока мне позволяют и здоровье, и возраст, я стараюсь учить как можно больше репертуара.
— Есть композиторы или сочинения, к которым очень хочется приблизиться, ввести в свой репертуар?
— Очень много всего, очень много разных композиторов. Даже не знаю… Мне хочется очень серьезно заняться Шопеном, я не так много его играл, репертуарные обязательства перед организаторами концертов или конкурсами не дают этого сделать. Я действительно очень хотел бы погрузиться в Шопена без привязки к какой-то дате или какому-то конкурсу. Поэтому Шопен.
Пожалуй, Брамс тоже, потому что я безумно люблю Брамса. И, опять-таки, я не так много его играл. У Брамса огромное количество шедевров.
— О конкурсных пианистах. Часто под этими словами подразумевают пианистов, которые играют по-конкурсному: ровно, стабильно, технически совершенно, идеально. Но обезличенно. В их исполнении нет души, самости и индивидуальности. Когда вы упомянули конкурсных пианистов, я поняла, что вы имели в виду людей, которые хотят участвовать в конкурсах.
— Здесь надо понимать, зачем они хотят участвовать в конкурсах. Есть люди, у которых откровенно есть соревновательная жилка, которым обязательно нужно быть в какой-то конкуренции. Обязательно поехать, обязательно выиграть, обязательно «всех порвать». Есть такие люди. Я рассматриваю конкурсы как какой-то плацдарм для дальнейшего развития.
Что для меня самое главное в моей победе в конкурсе — это то, что теперь я имею возможность коммуницировать с публикой, что у меня есть концерты, что я могу дальше развиваться артистически. Вот это для меня самое важное. Я теперь не должен оглядываться на эту победу, о чем я уже говорил ранее. А есть люди, которым нужно обязательно чувствовать себя в концертной форме…
— Как мотивация?
— Да, как мотивация. Для меня конкурсы — тоже мотивация, но она немного другая.
— Участвовать в конкурсах, чтобы «всех порвать»… А как «рвать», к примеру, исполнением Скарлатти?
— Можно. Мне кажется, что прекрасно можно. Если эта музыка будет сделана по-настоящему, если исполнитель вложит все свои, в первую очередь, душевные силы в то, чтобы эту музыку исполнить по-настоящему, то это может быть абсолютно великолепно. И это может произвести огромное впечатление, на самом деле.
Нам кажется, что на конкурсе надо играть Листа, Рахманинова, Прокофьева, чтобы все было эффектное и виртуозное. Но, на мой взгляд, филигранно сыгранная соната Скарлатти или полифонически осмысленная прелюдия и фуга Баха могут произвести не меньшее впечатление — на людей, которые действительно слушают, которые действительно погружаются в музыку.
— Кстати, о публике, эта тема всегда интересна. Наверняка задавались вопросом: конкурсная публика — из кого она состоит?
— Есть, конечно, люди — завсегдатаи, которые в принципе ходят в консерваторию. Их очень много. Есть, мне кажется, контингент публики, которая приходит специально на конкурс, потому что им тоже интересно, у них есть какой-то спортивный интерес.
— Такие аналитики.
— Да, это те люди, которые пишут в буклетиках: вот этот — первая премия, вот этот — вторая. И они потом сравнивают свои прогнозы с результатами, очень переживают. Еще очень большая группа — так называемые «группы поддержки» конкурсантов. Потому что участники созывают абсолютно всех, кого можно: друзей, родственников, знакомых. И это тоже весомая часть зала. Думаю, это основные группы публики на конкурсах.
— Наверное, есть еще группа, которая приходит «на людей посмотреть и себя показать»: дорогие наряды, безупречный внешний вид, блеск в глазах, восхищение молодыми талантами…
— Это, скорее, на открытии и закрытии. А на турах… может быть, на финале. Но на открытии и закрытии — абсолютно точно.
— Хочу затронуть тему конкуренции. Многие музыканты говорят, что конкуренции в музыке, как и вообще в искусстве, не существует, потому что нет объективных и универсальных критериев оценки. В конце концов, музыка не стометровка: кто прибежал первым — тот и лучший, победитель; нет. Другие также говорят, что конкуренция — она существует внутри тебя самого, что человек соревнуется прежде всего с самим собой. Но нельзя ведь отрицать, что, когда выходишь играть на конкурсе, где участвуют, к примеру, тридцать талантливейших пианистов, понятие конкуренции нельзя вообще опустить и извлечь из понимания происходящего. Вопрос следующий: как на вас влияет конкуренция, как она помогает или, наоборот, мешает? Какие у вас вообще отношения с этим страшным, обжигающим словом: конкуренция?
— Я, наверное, скажу так, что в отношении этой конкуренции, которая существует на музыкальных конкурсах, я понял одну вещь: с ней ничего невозможно сделать. Просто данность. Ты знаешь, что на конкурсе участвуют вот этот, вот этот, этот человек, они прекрасно играют; ты стараешься играть по мере возможностей. А решать уже не нам. Все в меру своих сил, в меру своих возможностей добиваются наилучшего результата, и никакого объективного сравнения сами мы не можем произвести.
Опять-таки, это не стометровка: этот пробежал за шесть секунд и двадцать миллисекунд, а этот — за шесть секунд и пять миллисекунд. Второй пробежал быстрее — значит, он и победил. Мы же не можем так сделать. Даже если мы играем одну и ту же программу, мы не можем поставить исполнения рядом и сказать, что вот это — лучше, а это — хуже, если люди действительно хорошо играют, объективно хорошо. Уже начинается личное субъективное отношение.
Я понял, что нужно оставлять это жюри и самому стараться по мере своих душевных сил получить удовольствие от игры другого участника, что я, собственно, и старался делать на этом конкурсе, потому что я слушал почти всех.
— На нашем сайте проводился опрос: кто, по мнению читателей, достоин первой премии. Большее количество голосов по специальности «фортепиано» набрали вы, с чем я вас поздравляю. Очень часто на конкурсах случается ситуация, когда мнение публики кардинально не совпадает с мнением жюри. Как думаете, почему так происходит? Хотя… можно ли так четко разделить: жюри и публика, ведь жюри — тоже публика, слушатели-профессионалы со своими вкусами, предпочтениями, симпатиями. Живые люди, не роботы.
— Да, конечно.
Опрос: кто из пианистов достоин первой премии Конкурса имени Рахманинова?
— И все же: как думаете, что способно повлиять на публику, как она выбирает своих любимчиков?
— По поводу жюри одну вещь хочу сказать. Если не ошибаюсь, на последнем Конкурсе имени королевы Елизаветы в финальном туре не было стола жюри, члены жюри сидели в зале в разных местах. И мне это настолько понравилось. Мне кажется, это настолько легче для исполнителя. А когда ты выходишь на сцену и видишь этот стол, где все сидят…
— А какие критерии у публики… Мне кажется, что публика — очень чувствительная субстанция, такое коллективное сознание. Публика очень чувствует искренность. Искренность и честность. Если человек действительно вкладывает свое, личное отношение к тому, что делает, — не наученное, когда он четко выполняет указания педагога, а именно личное, — публика это чувствует и на это реагирует.
Есть такое понятие как тишина в зале, которая бывает очень разной. В среднем, на концертах тихо, но бывают какие-то покашливания, у кого-то может зазвонить телефон, кто-то будет ерзать на стуле. А есть такая особая тишина, она часто бывает на концертах у Плетнева. В этой тишине… в ней как будто бы электричество.
Когда я, находясь на сцене, в какой-то момент осознаю, что в зале такая тишина, это значит, что публика со мной. Что она идет за мной, что она следит за мной. Вот это для меня всегда было самым важным. Значит, что-то в моей игре заставляет зал погрузиться.
И плюс, естественный артистизм, наверное, тоже имеет значение: поведение за роялем. Даже как человек выходит на сцену — это же можно сделать миллионом разных способов. Насколько это будет естественно, насколько органично. Еще и мимика, жесты. Мне кажется, все это — оно располагает или не располагает к себе публику, влияет на нее, ведь люди слушают не только ушами, но и глазами. Думаю, такой комплекс того, что в итоге влияет на предрасположенность публики.

— Вы немного затронули тему звонков из зала во время концерта. Все мы не без греха, думаю, почти у каждого был случай, когда он забывал выключить звук на концерте. Но на конкурсе случалось, когда телефон звонил секунд тридцать, если не больше. Насколько хорошо эти звонки слышны на сцене, и как они отвлекают во время исполнения?
— Когда это происходит во время игры, я этого практически не замечаю. Особенно, если зал большой. Но если это происходит сразу после того, как человек закончил играть — и сразу этот шлейф из рингтона… Или когда готовится начать — вот это ужасно, абсолютно ужасно.
— Бывало у вас такое?
— У меня такое было. Причем на конкурсе тоже было, не помню, на каком туре, но прямо после того, как я закончил одно из произведений, зазвонил телефон. Его заглушили аплодисменты, но все равно это было неприятно.
У меня был один случай, когда я играл в Камерном зале филармонии до минорный ноктюрн Шопена. Очень трагичная, очень глубокая музыка, первые две-три минуты идут на piano. Я сыграл буквально три-четыре такта, и прямо в этот момент зазвонил телефон, его не могли выключить минуту, а я продолжал играть.
Не знаю, может быть, я еще не чувствую в себе такой уверенности, чтобы остановиться и начать заново, мне это кажется каким-то разрывом естественной ткани, потому что концерт — это единое событие. Поэтому у меня был один такой случай со звонком на концерте. В остальном, когда телефоны звонят во время исполнения, меня это не беспокоит, потому что я этого не замечаю.
— И все же, уважаемые читатели, не забывайте выключать звук у телефонов, когда идете на концерт!
— Пристегните ремни, опустите шторку иллюминатора и наслаждайтесь полетом (улыбается).
— Если бы у вас была возможность пригласить на свой концерт любых людей, музыкантов/немузыкантов, личностей из всей истории, для ощущения: эти люди сидят в зале и слушают мою игру. Для кого бы хотелось сыграть?
— … необычный вопрос. Если говорить про музыкантов, наверное, Рихтер. Он мог абсолютно по-разному отзываться. Если бы ему не понравилось, я уверен, он бы честно сказал все, что думает.
— Вы бы рискнули узнать мнение Рихтера о своей игре?
— Я бы рискнул. Я сейчас подумал о Чехове, потому что Чехов был знаком с Рахманиновым, очень любил его музыку. Мне кажется, что это могло бы быть интересно.
— А если бы вам представилась возможность заказать любому из композиторов, живущему ныне или композитору из прошлого, написать произведение специально для вас, к кому бы обратились?
— Насчет композиторов из прошлого — не знаю, мне кажется, столько всего написано, что за всю жизнь не переиграть. Я знаком с композитором Алексеем Сергуниным, мы оба учились в колледже имени Шопена. Я слушал его «Скерцо в русском стиле», написанное для первого тура (Алексей Сергунин — лауреат третьей премии по специальности «Композиция» Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В.Рахманинова, прим.ред.). Оно мне понравилось, еще не успел послушать его фортепианный концерт. Может, я бы что-нибудь сыграл с удовольствием.
К сожалению, я не так пристально слежу за современной музыкой, а стоило бы, потому что это наше настоящее. Поскольку я знаком с Алексеем, думаю, я бы что-нибудь сыграл из его сочинений.
— В одном вашем интервью прочла, что вы любите кино. Что из последнего увиденного запомнилось, произвело впечатление?
— Насчет кино надо сказать, что любовь к этому искусству мне привил Сергей Арцибашев, мой педагог в школе и колледже. Последние месяцы я вообще не смотрел ничего серьезного, потому что не было никаких сил. Все, на что меня хватало, это прийти домой и включить «Теорию большого взрыва» — и отдыхать.
Пожалуй, запомнился фильм Копполы «Разговор», по-моему, незаслуженно находящийся на втором плане из-за «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня». На мой взгляд, выдающийся фильм, с потрясающим Джином Хэкменом, молодым Харрисоном Фордом. И не так давно я посмотрел «Женщин на грани нервного срыва» Альмадовара.
У меня есть список режиссеров, которых я больше всего люблю и за которыми слежу, как ныне живущих, так и ушедших. Это, конечно, Андрей Тарковский, Ингмар Бергман. У Бергмана такое количество фильмов, что я не успеваю их смотреть. Феллини, Пазолини.
— Антониони?
— Очень люблю, обожаю его «Трилогию отчуждения». «Фотоувеличение» — потрясающий фильм. «Красную пустыню» смотрел на большом экране, это нечто.
Дэвида Линча очень люблю, Томаса Винтерберга, Вуди Аллена, Ларса фон Триера. Недавно он анонсировал продолжение съемок своего сериала «Королевство», это должно быть интересно. Я стараюсь что-то смотреть, вникать, но, конечно, время не всегда позволяет.
— А если бы предложили сняться в кино, у кого бы хотелось сняться — и кого сыграть?
— Я знаком с выдающимся, на мой взгляд, кинокритиком и киноведом Сергеем Валентиновичем Кудрявцевым. Несколько лет назад, после сорока лет занятия кинокритикой, он снял свой первый фильм. И поскольку мы с ним были знакомы и общались, Сергей Валентинович пригласил меня сняться в очень коротком эпизоде: в конце фильма он показывал лица молодых людей, которые вселяют в него надежду на будущее. Вместе с Сергеем Арцибашевым мы подбирали музыку для этого фильма, в основном это была барочная музыка. Поэтому опыт с кино у меня был.
А у кого я хотел бы сняться… не знаю. Я совершенно не представляю себя в актерском воплощении, потому что для этого надо иметь какую-то открытость. Есть, конечно, актеры-интроверты. К примеру, Марчелло Мастроянни, которому не нужно было из себя что-то выжимать, он мог одним движением брови сделать многое. Я себе это не представляю.
Самое простое, пожалуй, было бы сыграть какого-то исполнителя, без драматической нагрузки. У какого режиссера… не могу себе представить.
— Если бы сегодня вы писали себе письмо, которое прочтете через пять лет, что бы вы пожелали себе?
— Не опускать руки, ценить то, что вокруг, наслаждаться жизнью.
— Александр, когда вы чувствуете себя счастливым?
— Не могу сказать, что у меня есть определенные моменты, когда я начинаю чувствовать себя счастливым. Пожалуй, я всегда себя так чувствую, кроме каких-то неудач или еще чего-то.
Мне кажется, что я счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом, к которому у меня не пропадает интерес. У меня прекрасная семья, прекрасная жена. У меня прекрасная собака. Я имею возможность выступать на сцене, путешествовать. И это делает меня счастливым.
Беседовала Татьяна Плющай