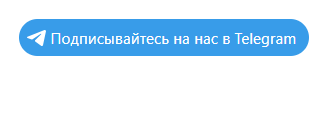Перед тем, как перейти к сути момента, отмечу, что такого «Кавалера» я не слышал: «вина ли» в этом приглашенного маэстро Стефана Солтеша или что-то особенное приключилось с моим собственным восприятием в этот вечер, но за исключением одного кикса в третьем акте, оркестр Большого прозвучал блестяще, спетость ансамблей была выше всяких похвал, а голоса…
Моя обожаемая Маршальша в исполнении Мелани Динер, неподражаемый и, наверное, лучший Окс Стивена Ричардсона, восхитительная Михаэла Зелингер! А хор какой волшебный! А детишки в третьем акте как сказочно спели! Вот хоть открывай афишу и оптом по списку клади низкий поклон всем, кроме исполнителя песни итальянского певца. Нет, я всё понимаю про пародийность этого персонажа, но даже карикатурный вокал не должен быть беспомощным (ведь эту партию пели и Паваротти, и Кауфман). Но – это к слову. А теперь – к делу.
«Кавалер Розы» Рихарда Штрауса и Хуго фон Хофмансталя – ярчайший пример влияния искусства на увеличение валового национального продукта и создания новых рабочих мест. Речь не о билетных спекулянтах, хотя дрезденская премьера этой драмы 26 января 1911 г. не оставила без доходов и эту часть страдальцев за народное просвещение. Речь о дополнительных поездах из Берлина в столицу Саксонии, которые Дирекция имперских железных дорог вынуждена была организовать, чтобы доставить к месту всех желающих приобщиться к новому взгляду на вольные нравы соседней «разболтанной» Австрийской империи, и о взлёте спроса на уникальную ювелирную продукцию: ведь после «Кавалера» экзальтированная знать вдруг поняла, что делать предложение руки и сердца без серебряного цветка в подарок – ну, просто верх неприличия.
А больше всех от появления мелодрамы Р.Штрауса – Х. Хофмансталя получил зарождавшийся в то время психоаналииз, краеугольными камнями которого по сю пору остаются эдипов комплекс и проблемы инфантильной сексуальности.
О том, почему в Рихард Штраус не любил теноров, можно рассуждать остроумно, долго и бесполезно. Главным идеологическим прорывом этой оперы про то, как Саломея постарела, является главный образ этого шедевра – образ Времени.
Немалое количество формальных анахронизмов, сознательно допущенных авторами, лишь подтверждает тот очевидный факт, что центральный монолог Мари-Терезы Верденберг (маршальши) «Die Zeit», в котором героиня рассказывает, как она встает по ночам, чтобы остановить в доме все часы, – монолог, строго говоря, программный. Я допускаю, что кто-то может видеть в «Кавалере» лишь комедийную подоплёку, но готовность заподозрить двух немецких гениев в столь поверхностной пошловатости – степень невежества, еще более глубокая, чем непонимание причин убийства Моцарта.
Одно время мне казалось, что идейным центром «Кавалера Розы» является примирение в образе Октавиана мужского и женского начал, которое явно прослеживается в парадигме этого травестийно-транссексуального образа, в котором женщина изображает мужчину, изображающего женщину. Сегодня же метасексуальная подоплёка «Кавалера» мне интереснее, поэтому поговорить хотелось бы именно об этом.
Композиция образов в «Кавалере Розы» пронизана двойниками: барон фон Окс – двойник Маршальши, мифическая служанка Маршальши Мирандль – двойник Октавиана, Октавиан сам(а) двойник Окса, Софи – двойник Маршальши и мифической служанки Маршальши Мирандль. Но создатели этой мелодрамы не были бы гениями, если бы ограничились банальным «два конца два кольца», а посередине…
Кстати, а кто в этой композиции образов посередине? Не мог бы этот сюжет (хотя бы теоретически) обойтись без Фаниналя – папы Софи? Фаниналь действительно «между» (между Оксом и Софи, между Маршальшей и Октавианом (постфактум уже, но тем не менее), и коль скоро карнавально-двойниковая «запаренность» всех персонажей, разумно задуматься, в какой паре состоит этот персонаж? Что в нем есть общего с кем-то из других персонажей? Не сильно напрягаясь (вариантов-то немного, если Вальцакки с Анниной не рассматривать), увидим, что Фаниналь – двойник Октавиана! Но – по какому признаку? А вот по этому самому «между»! И формально гермафродитная природа Октавиана лишь подчеркивает его «медиальность». Октавиан «между» Оксом и Софи, между Маршальшей и её полумифическим мужем, однажды, по-видимому, уже застукавшим супругу за ранним завтраком с молодым человеком (не этим, так другим – не суть).
Но моё любопытство не было бы моим, если бы не сфокусировалось на самом событийно ярком и самом комичном эпизоде оперы, когда в третьем акте Октавиан как мужчина оказывается как бы «между» изображаемой им же самим женщиной и бароном Оксом. Вот этот запредельный сюрр и вскрывает настоящий смысл титульного персонажа: ведь если бы драматург уступил композитору, и опера была бы названа «Барон Окс», вряд ли метасобытийные смыслы этого шедевра смогли бы прорваться в Вечность. Но даже это дидактическая сложность формальной структуры оперы всё еще слишком примитивна по отношению к упомянутому выше главному смыслу этой мелодрамы. И только потому, что именно этот смысл был считан и воплощен в постановке Стивена Лоулесса, позволяет говорить о спектакле, идущем сегодня в Большом театре, не просто как об интересным прочтении, а как о лучшем в мире сценическом воплощении этого шедевра.
Поскольку я уже разбирал версию Лоулесса три года назад, позволю себе лишь списком напомнить о ключевых приемах, использованных Лоулессом для расшифровки «корневого каталога» этого произведения: расположение трех актов оперы в трех разных эпохах (веках), разный дизайн циферблатов часов, которые являются центральным «пятном» сценографии, использование в костюмах аллюзий из «Волшебной флейты» Моцарта (костюм Птицелова) и реминисценций из живописи Джузеппе Арчимбольдо, самая значительная коллекция которого находится в Художественно-Историческом музее Вены как раз на той площади, где находится памятник императрице Марии-Терезии, всю жизнь совмещавшей сугубо женский обязанности матери шестнадцати детей с сугубо мужскими обязанностями управления государством.
Ну, и, наконец, финальный аккорд – арапчонок Маршальши, сначала взрослеющий по ходу пьесы, а потом… То, что происходит на сцене под звуки, завершающие партитуру, человека знающего может свести с ума: чернокожий юноша в фуражке за несколько мгновений превращается в подростка, который, в свою очередь, еще через пару мгновений превращается в ребенка! А ведь это визуальное схлопывание прожитой жизни от взрослого парня к малышу – лишь иллюстрация того, о чем печалится Маршальша, отказываясь от любви семнадцатилетнего пацана и передавая его юной Софи. Это то самое, о чём тревожится Софи, которая в финальном трио говорит о том, что Мари-Тереза, отдавая ей Октавиана, будто бы что-то забирает взамен. Что?
Ответить на этот вопрос, значит, понять в этой жизни что-то бесценное и бескрайнее – понять то, что делает «Кавалера Розы» настоящим откровением, а Штрауса и Хофмансталя – настоящими гениями. В глубине души надеюсь, что каждый найдет для себя свой ответ на этот вопрос. Но я сквозь призму массы сюжетных аллюзий на теории Лейбница и Гербарт – предвестников фрейдизма как ортодоксального психоанализа – этот ответ в возврате к тому состоянию, когда поступки были искренними, а деревья большими. В основе нашей сегодняшней зауми, которая страшнее запредельной дурости, нет ничего, кроме желания казаться умнее и значительнее. А вот что стоит за этим желанием, как не страх своей «невовлеченности», тогда как мудрому человеку никогда не нужно бояться своего неразумения. Нужно хотя бы отдавать себе в нем отчет и – просить о наставлении.
Сразу после рождения в нас идёт верная загрузка, и на ребенка до 5 лет повлиять почти невозможно. А потом… Потом начинают мешать родители, потом начинают мешать посторонние (школьные педагоги, прежде всего), потом друзья, а потом на человека наваливается со всей дури циклоп СОЦИУМА – со своей тупой одноглазой моралью, как и его мифический прототип. И вот я боюсь спросить: какое существо выдержит такой многолетний диктат дури, пошлости, извращенных интересов, направленных на удовлетворение своих сексуальных и социально-имиджевых потребностей? Да никто! Мы не знаем ничего о жизни Христа с 12 до 30 лет не просто так. С 12 до 30 лет происходит убийство в ребенке Бога. А потом – сразу четвертый десяток, когда человек уже приучился соответствовать чужим ожиданиям, а циклом социума, завершив кастрацию индивидума входит в безграничный кураж над остатками Божьей Твари, требуя от неё постоянного подтверждения права быть своим членом.
…И тут я вспомнил, что в одном из выдающихся романов одного из главных мыслителей современной России – Бориса Акунина – был дан рецепт возврата к самому себе, рецепт освобождения от страхов и страданий, рецепт, ценность которого понять так же просто, как увидеть истину: стать детьми! Не “другими детьми”, а самими собой в детстве. Вернуться к тем самым себе, которые искренне любили и ненавидели, не размениваясь на “целесообразность”, которые слышали Голоса и самой страшной трагедией считали родительский запрет на просмотр мультиков за порванные штаны и сбитые коленки. Зачем?
Для чего, возвращаясь в свои детские ощущения и переживания, нам освобождаться от налипшей коросты пустых зависимостей и мелких целей? Для того, чтобы закольцевав в сегодняшнем опыте прожитые годы, увидеть в ней самые счастливые моменты и успеть (УСПЕТЬ!) понять, что мы сделали не так, причинив своему детскому “я” боль, чтобы понять, за что нам-взрослым было бы стыдно перед нами-детьми. Без этого понимания нет и не может быть прозрения. Но прозрение не всем ведь и нужно… А что нужно всем?
Сила быть свободными. Свободными, прежде всего, от увечий, полученных нашей душой во время взросления. Избавиться от них тогда нам не помогли родители, но сегодня мы же готовы сами стать себе родителями и сами честно оценить прожитые годы и сами наказать себя за сбитые коленки и порванные штаны? Наказать именно лишением мультиков, лишением сладкого, лишением тех самых радостей, ценность которых мы давно перестали ощущать, погрузившись в мир убогой обесцененности.
И комический «форма» «Кавалера розы» Рихарда Штрауса и Хуго фон Хофмансталя словно вопиет: «Господи, ну, неужели же это так сложно?!!»
И перелистывая прожитые годы, мы пытаемся, но никак не можем понять, что самый тяжелый путь не на Голгофу, а обратно. Куда? К себе.
Александр Курмачев