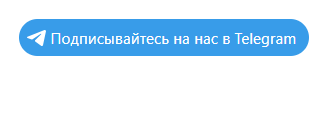Интервью с Александром Васильевичем Петровым, художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье».
Мы встретились в завершение знаменательного сезона, в котором театр отметил свое 30-летие, и в разгар работы над новым спектаклем.
— Александр Васильевич, чем знаменателен юбилейный сезон?
— На юбилейном концерте под названием «Отражения будущего» мы представили сцены из спектаклей, которые в ближайшее время хотим видеть на нашей сцене. Это — «Отелло», «Русалочка», «Свинопас», «Белый клык», «Месяц в деревне», «Питер Пэн», «Перикола» и «Царская невеста».
Прошло несколько месяцев, и вот уже поставлены «Русалочка», «Свинопас». Появился «Теремок». Мы полностью возобновили спектакль Заржецкого «Дидона и Эней». И наконец, 25 мая должна состояться премьера «Царской невесты».
Эта опера совсем непростая по многим категориям. По тому флеру, который тянется за ней в плане великих исполнителей, таких как Галина Вишневская, Ирина Архипова, и дирижеров — Лев Штейнберг, Евгений Светланов, Фуат Мансуров…
Мы имеем очень интересное произведение — историческую драму, вернее драму с историческими фигурами. Все эти люди реально существовали — Марфа, ее отец Собакин, царский лекарь Елисей Бомелий, опричник Грязной, реально существовал сам Иван, Иван Грозный — главная фигура всей этой истории.
Именно от историчности этих персонажей мы и хотели начать наше «движение». За три часа сценической жизни внутри оперы происходит пять(!) убийств: убийство Любаши, поджаривание на вертеле Бомелия, отрубание головы Грязному, повешение князя Гвоздева-Ростовского, забивание камнями боярина Лыкова и сумасшествие Марфы.
Возникает вопрос: когда это могло произойти, как и почему? Мне кажется, что главное — это эпоха, время, когда существовал царь Иван, запомнившийся вседозволенностью, жесточайшими пытками…
Здесь же вспоминаются шекспировские страсти, итальянская история правления Медичи… И задаешься вопросом: что подлинно — бороды, срубы, кафтаны или же конкретные человеческие судьбы? В нашей трактовке на сцене появляются люди, облаченные в «одежды». Время как будто есть, и как будто его нет, оно неконкретное.
Мы искали образы, близкие нашей идее в русских иконах, на которых изображены страдания мучеников, страстотерпцев. Мы нашли их: «Троица» Андрея Рублёва, псковские фрески, новгородская иконная живопись.
Очень трудно артисту, который существует сегодня, представить себя в качестве отравителя, «отрубателя» — убийцы. Весь сюжет — это движение безумных страстей. Вседозволенность этих страстей обусловливается временем, в котором герои живут.
Наш спектакль — это своего рода памятник его подлинному главному герою, Ивану Грозному, истовости самого Ивана, истовости его безумной религиозности и всего, что из нее проистекает. Опричники одеты в монашеские рясы, в этом тоже есть страшный свой смысл.
— Несколько слов об исполнителях.
— Их много — по три-четыре: 4 Марфы, 4 Грязных, 3 или 4 Лыкова. Мы как-то уже сжились с мыслью, что выходим на сцену убивать, подкладывать зелье, получать удар ножом в грудь. Но главное, петь — о чем-то светлом в этом мрачной истории. Об этом и думал Римский-Корсаков. Самым пронзительным, невероятно красивым, чистым оказался финал — сцена сумасшествия Марфы.
— Спектакль очень актуальный, не так ли?
— Еще бы! Герой сегодняшнего дня — царь Иван. Это очень актуальный спектакль: взаимоотношения государства и личности, попрание личности как таковой, неприятие ценности человеческой жизни…
— А ваши студенты участвуют в спектакле?
— В спектакле происходит что-то совершенно невиданное. В том смысле, что никогда раньше я не позволял студентам первого курса участвовать в постановке. В этом году весь курс — 25 человек — это настоящий хоровой коллектив.
— В «Русалочке» и «Свинопасе» тоже задействованы студенты?
— Все постановщики этих спектаклей — студенты. Режиссеры Мария Павельева и Анна Снегова, композитор — Илья Партас, художники — Мария Медведева и Дарья Здитовецкая. Режиссеры, художники, композитор собрались вместе и сделали две премьеры. Конечно, было художественное руководство с нашей стороны. Спектакли мощно брызжут современностью.
Художницы задавали тон, и возникло нетрадиционное оформление: в «Русалочке» — это Гауди. В «Свинопасе» показана разница между романтизмом принца и мещанским миром принцессы. Мне понравился отказ от традиционных атрибутов, найден своеобразный музыкальный язык.
Очень большая редкость — найти композитора. Илья Партас ценит вокал, любит его и понимает. Артисты – четверокурсники (большая часть) и артисты театра.
В июне у нас большой показ дипломных спектаклей: «Пастушка и трубочист», «Капитан Фракасс», «Дидона и Эней», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «La Dance — impression». Последний делает педагог курса и артист театра Леонид Нечаев.
Он берет французскую музыку — Равеля, Дебюсси, Пуленка, Мийо — и создает некую композицию, которая поется и танцуется. В целом это удивительное зрелище, чистый авангард. Этот спектакль поедет 3 мая на Международный фестиваль в Кишинёв.
— Как мастер курса, профессор РГИСИ, что вы считаете самым главным для артиста музыкального театра? Как удается достичь такой спаянности, ансамблевости артистов на сцене?
— Без ансамбля на сцене жить невозможно. Когда нет спаянности, единомыслия, ответственности за этот коллективный род деятельности, вылезает наружу эго. Совесть, честь, достоинство — это самое главное для артиста. У нас есть мощный комплекс воспитания, все закладывается с первого курса.
Студенты этого года побывали на всех спектаклях «Зазеркалья», они смотрят на старших товарищей. У молодежи безумная тяга к знанию: как научиться, как суметь, как сделать?! Эта жадность мне очень нравится. В нашем доме на Рубинштейна есть свои законы, свои секреты, свой устав, своя хартия — за порядочность.
— Недавно вышла опера-малышка «Теремок»…
— Это прелесть! Она возникла у замечательного екатеринбургского композитора Насти Беспаловой. Нам понравилась музыка: очень человечная, очень понятная, характерная.
В ней есть все нужное для детского восприятия. Яркие музыкальные портреты персонажей: мыши, медведя, лисы, зайца.
Композитор Анастасия Беспалова и наш режиссер Ирина Черкасова внесли в сказку тему цирка, и появились жонглеры, велосипедисты, дрессировщики, тяжеловесы, а звери зажили своей новой жизнью. Удивительной красоты оформление выполнила наш главный художник Наталья Клёмина.
— Чем для вас является фестиваль «Арлекин», который проходит на сцене «Зазеркалья» уже в 15-й раз?
— Театр останавливается практически на месяц, это большое испытание для театра. Мы смотрим, впитываем, порой удивляемся результатам. На фестивале показывают очень много классных работ. Это грандиозное творческое обогащение — и для артистов, и для публики. Самое важное — нестандартность, когда на простом, даже скромном эффекте достигается огромная выразительность.
В прошлом году совершенно изумительным для меня показался спектакль «Сказка о царе Салтане» из Перми: из мешков было соткано некое чудо, которое на наших глазах превращалось в море, корабль, дворец. В этом были удивительная поэзия и художественная цельность.
— А симфонические и камерные концерты пользуются такой же популярностью, как спектакли?
— Сейчас даже большей. Число людей, живущих в этом городе и желающих провести вечер не дома у телевизора, а на концерте, причем за небольшие деньги, огромное. На этих концертах нет свободных мест. Наши дирижеры придумывают программу, а перед концертом сами выходят со вступительным словом.
— Продолжится ли этим летом традиция концертов во дворике театра?
— Конечно! Мы планируем сделать и новые — Бродвейский и Венский.
— Были ли гастроли в этом сезоне?
— Казань, Москва. В Казани мы представили шесть спектаклей за пять дней: «Cosi fan tutti», «Иоланта», «Золушка», «Детский альбом», «Снегурочка». После этих гастролей мы особенно остро почувствовали себя настоящим оперным домом, который многое может. Все было сделано на высочайшем уровне, без компромиссов — режиссерских, исполнительских, организационных.
А в мае мы поедем в Сочи. Когда-то их Зимний театр открывался «Царской невестой». Сейчас мы примем участие в гала-концерте, а в будущем отвезем туда свою «Царскую невесту».
Ксения Токмакова, “Санкт-Петербургский Музыкальный вестник”